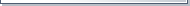А вот что происходило в это время в другом сибирском городе Тюмени. В Тюмень прибыл красный отряд в составе 1-го Северного Московского карательного отряда (матросы) с военным комиссаром Северного района Западной Сибири Запкусом. В результате расстреляны «саботажники» и «контрреволюционеры», на «Буржуев» наложена контрибуция в 1 миллион рублей, у обывателей конфискованы драгоценности и ювелирные украшения. Давать отчет исполкому Тюменского Совдепа, куда пошли изъятые средства, Запкус отказался.
К большевикам примкнуло много лиц из числа деклассированного элемента, уголовники, сельские пропойцы и бездельники, все те, кто захотел половить рыбку в мутной воде в надежде личного обогащения, все, кто искал власти. Большевики нуждались в кадрах. И именно руками таких людей, в основном, и мостилась дорога в новое светлое будущее. Политика большевиков вызвала неприятие в Сибири. До майского выступления Чехо-Словацкого корпуса на территории Томской губернии было отмечено 36 выступлений крестьян, рабочих, офицеров и солдат против большевиков. Самое массовое – антибольшевистское выступление рабочих Сунженских угольных копий, в котором участвовало 1,5 тыс. человек. Все выступления были подавлены Красной Гвардией и продотрядами, многие участники были расстреляны. Антибольшевисткие выступления были и в Ново-Николаевске – весной у электротеатра Махотина был организован митинг сторонников Учредительного собрания, разогнанный красногвардейцами.
Вечером 25 марта 1918 г. 2-й Омский Международный Социалистический Партизанский отряд, состоящий из 150 литовцев, 100 русских, около 130 чехов и 70 немцев (командир отряда большевик А. Х. Балакирев, а комиссар - литовский большевик Степанайтис) прибыл на станцию Ново-Николаевск. В это время на станции находился эшелон взбунтовавшихся матросов (возможно, демобилизованные моряки-тихоокеанцы, возможно, чины одного из карательных отрядов). В этот же день отряд вместе с Ново-Николаевским красногвардейским отрядом в 50 бойцов разоружают матросов, и 2-й Омский отряд продолжил свой путь на Забайкальский фронт.
В городе продолжалось формирование частей Красной Гвардии, Интернационального батальона, а 7 апреля на городском митинге под председательством большевика Ф.П. Серебренникова было объявлено о создании Советским правительством Красной Армии, куда митингующих и призвали вступать члены Совдепа.
Документов о тех событиях сохранилось крайне мало. В годы советской власти, разумеется, было сделано все, чтобы старательно спрятать все «неблагопристойные» факты, связанные с первыми месяцами Советской власти. Город был отдан на откуп Красной Гвардии, которая, кроме как из рабочих и солдат гарнизона, состояли еще и из уголовников, да так называемых «интернационалистов» - бывших военнопленных венгров и китайских чернорабочих (создавших в 1917 г. в Ново-Николаевске свою боевую организацию). Именно на военнопленных, которых в России оказалось около 2,2 миллиона, во многом и сделало ставку большевистское правительство. В обмен на возможность вернуться на родину (иначе - погибнуть в необъятной России от голода) военнопленным австрийцам, немцам и венграм (а также бывшим китайским рабочим) предлагалось пополнить ряды Красной Гвардии и с оружием в руках заслужить шанс увидеть родных и близких. Как уже упоминалось, в Ново-Николаевске в годы Первой Мировой войны был устроен крупный распределительный лагерь военнопленных. Капитан австралийской армии У. Лэчфорд, служивший в Сибири в составе английской военной миссии, вспоминал: «Проблема военнопленных стояла в Сибири очень остро, и эти края были забиты несчастными жертвами жизненных обстоятельств… К нам пристал жалкий бродяга в лохмотьях… (австриец, бывший до войны музыкантом ) его взяли в плен в 1914 году, и на протяжении четырех лет он не получил ни единой весточки от жены и детей. Так культурный человек был вынужден влачить жалкое существование в дебрях Сибири без какой-либо надежды на возвращение домой… Мы думали, что это был исключительный случай, но более поздний опыт, связанный с военнопленными, показал, что подобные истории были типичными для большей части этих несчастных людей...».

Пулеметная команда Интернационального батальона им. Карла Маркса (из фондов Новосибирского областного краеведческого музея)
Кроме избавления от лагерной жизни, у военнопленных появлялась еще и возможность «рассчитаться» с русскими за поражения в войне и долгие годы плена. Чем многие из них и поспешили воспользоваться. В Сибири и на Алтае бывшие военнопленные составляли до 80 % состава частей Красной Гвардии. Даже советские источники признают наличие «не менее 20 подразделений» из «иностранцев» в Сибири. Капитан Лэчфорд вспоминал: «После революции надзор за пленными ослаб, и многие из пленных, особенно немцы, присоединились к красным и активно воевали против белых и союзников». Всего через ряды Красной Гвардии, а затем и РККА прошли 300 тыс. таких «интернационалистов».
Командующий Забайкальским фронтом С. Г. Лазо говорил об интернациональных отряд, в том числе о прибалтах: «Хорошо дерутся… В бою они стремительны, дерутся темпераментно. Преданы революции».
В подтверждение данных об интернациональных отрядах А.Ф. Котов в газете «Сибирский листок» № 87 от 17 июня 1918 г. писал о составе красноармейского отряда под Тобольском (отряд бежал из Омска, где составлял основу красного гарнизона), в плену которого он оказался: «Состав отряда был на 3/4 из военнопленных мадьяр. Остальные были турки и латыши, русских было всего 4 человека».

Кепи венгерского солдата (из частной коллекции)

Мадьяры из отряда Сухова (фото из сети интернет).
Как вся эта разношерстная публика вела себя в городах и селах Сибири, можно только догадываться. Забегая вперед, скажем, что если «белый» террор был не официальной позицией руководителей антибольшевистского движения, а произволом отдельных лиц, то «красный» террор был следствием государственной политики Советского правительства. Вот что писал член Коллегии ВЧК Лацис в газете «Красный террор» (официальный печатный орган ВЧК – авт.) от 1 ноября 1918 г.: «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом сущность и смысл красного террора».
Советская власть в Сибири просуществовала до так называемого «мятежа Чехословацкого корпуса» в мае-июле 1918 г.
Говорить о том, что вся Сибирь к моменту выступления чехо-словаков была настроена определенно антисоветски, было бы неверно. Нарастание недовольства Советской властью шло только в городах и в близлежащих к ним деревнях.
К этому времени в Сибири и на Дальнем Востоке, как и в Поволжье, существовали сильные офицерские организации, и организации солдат-фронтовиков из числа тех, кому не по нраву были новые порядки (организации начали складываться с конца 1917 г.). Их члены, ведя подпольную работу, помогали по мере возможности боровшимся против Сибирского Вокома отрядам сибирских и семиреченских казаков. Именно сибирские казаки были по началу единственными в Сибири, кто открыто выступил против большевиков с оружием в руках. Одними из самых активных лидеров подполья в Сибири были также казаки - полковник П.П. Иванов (псевдоним Ринов) и есаул Б.В.Анненков, который начал свою борьбу ещё до чехо-словацкого выступления. В Сибири и, особенно, на Алтае, существовали и национальные антибольшевистские формирования во главе с офицерами соответствующей национальности. Кроме офицерских организаций, работу по свержению власти большевиков вели и эсеровские боевые дружины под общим руководством военного министра Правительства автономной Сибири полковника А.А. Краковецкого. В Западно-Сибирском военном округе уполномоченным комиссаром военного министерства Правительства был штабс-капитан А. Дизель.

Свидетельство о роспуске воинских частей - удостоверение рядового
21-го Сибирского стрелкового запасного полка Анатолия Ильина (из
коллекции И.В. Ладыгина)
| Сибирская армия | |
 Знамёна Сибирской Армии | |
| Годы существования | июль 1918 - июль 1919 |
|---|---|
| Страна |
|
| Тип | сухопутные войска |
| Участие в | Уфимская операция 1919 |
| Командиры | |
| Известные командиры | А.Н.Гришин-Алмазов |
История создания
Образование антибольшевистского подполья
Состоявшийся в Томске 6-15 декабря 1917 года Общесибирский Чрезвычайный областной съезд отказался признать советскую власть. Для управления краем был избран Временный Сибирский областной совет во главе с Г. Н. Потаниным. Большинство членов Совета являлись эсерами. Предполагалось, что Временный Сибирский областной совет передаст свои полномочия Сибирской областной думе, созыв которой намечался на вторую половину января 1918 года. Сибирская областная дума, в свою очередь, должна была сформировать правительство — орган исполнительной власти в Сибири.
В ночь на 26 января 1918 года Томский совет распустил Сибирскую областную думу. Избежавшие ареста члены Думы на конспиративном совещании избрали Временное правительство автономной Сибири во главе с эсером П. Я. Дербером. Пост военного министра в этом правительстве занял эсер подполковник А. А. Краковецкий, которому было поручено организовать вооружённую борьбу против советской власти в Сибири.
Приступив к исполнению своих обязанностей, Краковецкий назначил своими уполномоченными на территории Западно-Сибирского военного округа штабс-капитана А.Фризеля, на территории Восточно-Сибирского военного округа — прапорщика Н. С. Калашникова; оба они являлись членами партии эсеров. Параллельно эсеровским военным организациям, руководимых Краковецким, и независимо от них формировались непартийные офицерские организации, получившие преобладающее значение в общесибирском подполье. В результате эсеры утратили руководящую роль в военных вопросах, а на их место выдвинулись более старшие в чинах беспартийные офицеры: в Западно-Сибирском округе — полковник А. Н. Гришин-Алмазов, в Восточно-Сибирском округе — полковник А. В. Эллерц-Усов. Для координации подпольной работы к концу мая был создан Центральный штаб, возглавляемый Гришиным-Алмазовым. Резиденция штаба находилась в Новониколаевске.
Ситуация в момент выступления чехословаков
В конце мая 1918 года военно-политическая ситуация на Урале и в Сибири коренным образом поменялась в результате антибольшевистского выступления чехословацкого корпуса. В рядах корпуса, эшелоны которого располагались на Транссибирской железнодорожной магистрали, насчитывалось около 35 тысяч человек. По данным обер-квартирмейстера штаба корпуса подполковника В.Клецанды, Пензенская группа поручика С.Чечека насчитывала 8 тысяч штыков, Челябинская группа подполковникаС. Н. Войцеховского — 8,8 тысяч штыков, Мариинская группа капитана Р.Гайды — до 4,5 тысяч, и Владивостокская группа генерал-майора М. К. Дитерихса — 14 тысяч.
Под давлением Германии большевики в мае пытаются разоружить и интернировать корпус. Однако чехи отказываются подчиняться приказам большевистских властей. На собрании Чехословацкого национального комитета в Челябинске 20 мая было принято решение, если большевики применят силу — поднять восстание и пробиваться во Владивосток с оружием в руках. Непосредственное руководство чехословацкими частями взяли на себя участвовавшие в совещании поручик Чечек, подполковник Войцеховский и капитан Гайда. 24 мая 1918 года Троцкий издаёт приказ:
«Каждый чехословак, замеченный на железной дороге с оружием, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выброшен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных»
25 мая красногвардейцы нападают на чехословаков, но терпят поражение. В тот же день чехи при поддержке антибольшевистского подполья захватывают Мариинск. А 26 мая — Челябинск и Новониколаевск. Именно в Новониколаевске и началось формирование первых регулярных частей будущей Сибирской армии. 28 мая прибывший в Новониколаевск полковник А. Н. Гришин-Алмазов объявил о вступлении в командование войсками Западно-Сибирского военного округа. Согласно его приказу, 12 июня 1918 года штаб Западно-Сибирского военного округа был переименован в штаб Западно-Сибирской отдельной армии.
Ко времени антибольшевистского выступления Чехословацкого корпуса большинство членов Временного правительства автономной Сибири, включая П. Я. Дербера и А. А. Краковецкого, находились на Дальнем Востоке. Соединение сибирской и дальневосточной военных антибольшевистских группировок произошло лишь в сентябре, в силу чего вопрос о власти в Сибири летом 1918 года решился без участия вышеназванных лиц.
Создание органов власти и управления
Вечером 30 мая 1918 года в Новониколаевске состоялось заседание так называемого «Совета при уполномоченных Временного сибирского правительства». Совет постановил учредить Западно-Сибирский комиссариат (ЗСК) с соответствующими отделами по отраслям деятельности. ЗСК являлся временным органом. Предполагалось, что в скором времени его функции, но уже в общесибирском масштабе, примет на себя избранное Сибирской областной думой Временное правительство автономной Сибири.
Эсеры, создавшие ЗСК и занявшие в нём ключевые посты, попытались установить свой контроль над армией с помощью политических комиссаров и продвижения на ключевые посты членов своей партии. Но в военной среде они встретили более решительное сопротивление со стороны правых сил, нежели в области гражданской власти и управления. В результате, 14 июня «ввиду вполне определившихся форм по организации и управлению армией» инициированный эсерами институт правительственных комиссаров при воинских частях Западно-Сибирской отдельной армии был упразднён, так и не успев развернуться. По настоянию Гришина-Алмазова, в тот же день ЗСК постановил своим военным отделом считать штаб Западно-Сибирской отдельной армии, а заведующим отделом — командующего войсками армии.
30 июня 1918 года Западно-Сибирский комиссариат передал свои властные полномочия Временному сибирскому правительству во главе с П. В. Вологодским. А. Н. Гришин-Алмазов указом от 1 июля 1918 года был назначен управляющим военным министерством ВСП с оставлением в должности командующего Западно-Сибирской отдельной армии.
Главным органом военного управления в регионе являлся штаб Западно-Сибирской отдельной армии, 15 июня 1918 года находившийся в Омске. На всех важных постах в штабе и управлениях Сибирской армии находились кадровые офицеры старой русской армии. Более того, ключевые должности начальника штаба и генерал-квартирмейстера занимали офицеры Генерального штаба, то есть лица, имевшие законченное высшее военное образование.
Совмещение А. Н. Гришиным-Алмазовым, а затем П. П. Ивановым-Риновым двух ключевых военных постов — командующего армией и управляющего военным министерством — способствовало тому, что военное министерство Временного сибирского правительства имело нетрадиционную для этого органа структуру: Гришин-Алмазов отказался от создания разветвлённого аппарата военного министерства, распределив его функции между штабами Сибирской армии и Западно-Сибирского военного округа.
Восстановление системы военных округов
Деятельность штаба Западно-Сибирского (Омского) военного округа, упразднённого большевиками весной 1918 года в ходе демобилизации старой армии, возобновилась 9 июня 1918 года по приказу командира Степного корпуса полковника Иванова-Ринова. 10 июня он назначил начальником штаба Западно-Сибирского военного округа генерал-майора В. Р. Романова. Полномочия В. Р. Романова, как начальника штаба округа, были подтверждены приказом Гришина-Алмазова от 12 июня 1918 года.
Приказом по военному ведомству Временного сибирского правительства от 22 июля 1918 года было официально объявлено о восстановлении Иркутского и Западно-Сибирского военных округов в тех территориальных пределах, в которых они существовали до большевистского переворота. Одновременно все окружные управления Иркутского военного округа подчинялись соответствующим управлениям Западно-Сибирского военного округа, причём последним были предоставлены права главных управлений. 31 июля главным начальником Западно-Сибирского военного округа был назначен генерал-майор М. К. Менде, Иркутского военного округа — полковник А. В. Эллерц-Усов. Управления Западно-Сибирского военного округа с этого времени стали выполнять функции главных управлений военного министерства. К компетенции штаба округа относилось решение конкретных вопросов, связанных с комплектованием и снабжением Сибирской армии.
Нетрадиционные органы военного управления
В процессе военного строительства в Сибири многие вопросы требовали новых, нетрадиционных для старой армии решений. В связи с этим постановлением Временного Сибирского правительства от 31 июля 1918 года были учреждены Сибирское военное совещание и канцелярия Сибирского военного министерства.
Сибирское военное совещание, работавшее под председательством военного министра, занималось обсуждением и решением важнейших законодательных, финансовых, хозяйственных и других вопросов, касавшихся деятельности военного ведомства. Предварительное рассмотрение вышеупомянутых вопросов до внесения их в Сибирское военное совещание осуществлялось в Канцелярии военного министерства, начальником которой с 22 июля 1918 года являлся генерал-лейтенант А. Л. Шульц.
Взаимодействие с чехословаками
Войска Чехословацкого корпуса, на начальном этапе являвшиеся главной ударной силой в борьбе с советскими войсками, не подчинялись командованию Сибирской армии. Поэтому, прежде всего Гришину-Алмазову необходимо было решить вопрос о координации совместной боевой деятельности русских и чехословацких войск. Такая договорённость была достигнута на Государственном совещании в Челябинске 13 июля 1918 года. С согласия Временного Сибирского правительства все действовавшие на фронте войска Сибирской армии были в оперативном отношении подчинены командиру Чехословацкого корпуса Генштаба генерал-майору В. Н. Шокорову «впредь до назначения главнокомандующего всеми союзными войсками». Общее руководство и координация боевыми операциями стали осуществляться через штаб Чехословацкого корпуса.
Предоставление Шокорову прав главнокомандующего не следует воспринимать как некую узурпацию чехословаками прав руководителей Сибирской армии. И Шокоров, и его начальник штаба генерал М. К. Дитерихс были офицерами российского Генерального штаба. В боевом и служебном отношениях они стояли гораздо выше любого из командиров и начальников Сибирской армии.
Летом 1918 года между руководителями Сибирской армии и Чехословацкого корпуса складывались в целом деловые, доброжелательные отношения. Однако по мере усиления Сибирской армии её командование начало тяготиться своей зависимостью от чехословаков. Особенно остро это стало проявляться с конца августа, когда генерал Шокоров был заменён на посту командира Чехословацкого корпуса чехом генералом Я.Сыровым. Разногласия по вопросам оперативного командования между штабами Сибирской армии и Чехословацкого корпуса явились одной из причин отставки Гришина-Алмазова.