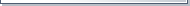Англичане же на сотрудничество настроены не были.
19 апреля 1939 г. на заседании английского правительственного комитета по вопросам внешней политики обсуждалась записка статс-секретаря министерства иностранных дел А. Кадогана, где он писал[13]:
26 апреля на заседании английского правительства министр иностранных дел лорд Э. Галифакс заявил, что «время ещё не созрело для столь всеобъемлющего предложения».
Англия, согласно ее предложению от 8 мая и высказываниям Галифакса, была готова в той или иной степени сотрудничать с СССР в борьбе против агрессии только в том случае, если бы Германия совершила агрессию против Польши или Румынии и последние оказали сопротивление агрессору. Однако английское правительство не хотело заключать англо-франко-советский договор о взаимопомощи против агрессии, согласно которому оно было бы обязано оказывать Советскому Союзу помощь в случае нападения на него самого.
Естественно, от такого варианта договора СССР отказался. В записке, врученной народным комиссаром иностранных дел СССР послу Великобритании в СССР 14 мая, говорилось[20]:
 В.М. Молотов |
Очевидно, после этого Сталин стал задумываться о заключении соглашения с Германией, для чего был нужен жёсткий и прагматичный политик, не так непримиримо относившийся к Германии, как Литвинов. Таким политиком был Молотов.
Одним из немногих голосов разума в тогдашней английской политике был убеждённый антикоммунист У. Черчилль.
Вот что он говорил в палате общин 19 мая[15]:
После отставки Литвинова Гитлер впервые за шесть лет своего правления изъявил желание выслушать своих экспертов по России. Из их доклада Гитлер узнал много для себя нового, в частности — что СССР придерживается сейчас не политики мировой революции, а более прагматичного державного курса.
Интерес Гитлера к России усиливался. Посмотрев документальный фильм о советских военных парадах, фюрер воскликнул: «Я совершенно не знал, что Сталин — такая симпатичная и сильная личность». Немецким дипломатам была дана команда и дальше зондировать возможности сближения с СССР. [16]
Информация о том, что Германия собирается активизировать отношения с СССР, дошла до Англии. Услышав об этом, Галифакс заявил, что «не стоит испытывать особого доверия к таким сообщениям, которые, вполне возможно, распространяются людьми, желающими подтолкнуть нас к пакту с Россией»[17]
На этом фоне англичане решили начать переговоры с Германией. 9 июня посол Великобритании в Германии Гендерсон посетил Геринга и заявил ему, что если бы Германия пожелала вступить с Англией в переговоры, то получила бы «не недружественный ответ». 13 июня Гендерсон встретился со статс-секретарем министерства иностранных дел Германии Вайцзекером, который в записях об этой беседе, отметил, что английский посол «явно имея поручение, говорил о готовности Лондона к переговорам с Берлином… критически высказывался об английской политике в Москве» и «не придает никакого значения пакту с Россией»[17].
Летние переговоры СССР с Англией и Францией
Складывавшаяся обстановка вынудила 6—7 июня Великобританию и Францию принять за основу советский проект договора. Однако, сам договор англичане заключать не собирались. Истинной их целью было затянуть переговоры, и тем самым держать Гитлера под угрозой создания могучей коалиции против него. 19 мая Чемберлен заявил в парламенте, что «скорее подаст в отставку, чем заключит союз с Советами». При этом, как уже было показано выше, союз с Гитлером также не исключался.
В свою очередь, «В Париже тогда полагали, что советские власти будут ждать исхода политических переговоров с Парижем и Лондоном, прежде чем начнут официальные, даже чисто экономические контакты с Берлином», — суммирует З.С. Белоусова содержание французских дипломатических документов[16].
Английское правительство для переговоров, решавших судьбу Европы, послало в Москву рядового чиновника – начальника центрально-европейского бюро Стрэнга, в то время как со стороны СССР переговоры возглавлял нарком иностранных дел Молотов. Черчилль отмечал, что «посылка столь второстепенной фигуры означало фактическое оскорбление». Как считают В. Г. Трухановский и Д. Флеминг, направление в СССР чиновника низкого ранга было «тройным оскорблением», так как Стрэнг к тому же защищал британских инженеров, в 1933 г. обвиненных в СССР в шпионаже, а также входил в группу сопровождавших премьер-министра в его поездке в Мюнхен[18].
Францию на переговорах представлял тоже не самое высокое должностное лицо - французский посол в Москве Наджиар.
Как и планировало английское правительство, переговоры затягивались, на что обратила внимание и британская пресса.
Так, например, газета «Ньюс Кроникл» в номере за 8 июля дала в данной связи следующую карикатуру: в затканной паутиной комнате в окружении десятков томов британских «предложений» за 1939–1950 гг. изображен сидящий в кресле одряхлевший Чемберлен, который с помощью усиливающей звук трубки разговаривает с Галифаксом. Глава Форин Офис сообщает ему о том, что только что отправил последнее предложение. В роли курьеров выступают две черепахи, одна из которых только что вернулась из Москвы, а другая направляется туда с новыми предложениями. «Что мы будем делать дальше?» — спрашивает Галифакс. «О да, погода прекрасная», — отвечает ему Чемберлен[18].
Тем не менее, к середине июля в ходе переговоров был согласован перечень обязательств сторон, список стран, которым давались совместные гарантии и текст договора. Несогласованными остались вопросы военного соглашения и «косвенной агрессии».
Под косвенной агрессией имелось в виду то, что случилось с Чехословакией – когда самих военных действий не было, но под их угрозой страна была вынуждена выполнить требования Гитлера. СССР расширил понятие «косвенная агрессия»
«...Выражение «косвенная агрессия», — подчеркивалось в предложениях Советского правительства от 9 июля 1939 г., — относится к действию, на которое какое-либо из указанных выше государств соглашается под угрозой силы со стороны другой державы или без такой угрозы и которое влечет за собой использование территории и сил данного государства для агрессии против него или против одной из договаривающихся сторон, — следовательно, влечет за собой утрату этим государством его независимости или нарушение его нейтралитета»[19].
Советское правительство настаивало на распространении понятия «косвенная агрессия» на страны Прибалтики и Финляндию, хотя те этого и не просили, что было мотивировано в уже упоминавшейся записке от 14 мая:
Протест партнёров по переговорам вызвали слова «или без такой угрозы» в определении косвенной агрессии и её распространение на страны Прибалтики. Министерство иностранных дел Великобритании боялось, что такая трактовка «косвенной агрессии» может оправдать интервенцию СССР в Финляндию и Прибалтику даже без серьёзной угрозы со стороны Германии.
В начале июля французский посол Наджиар предложил разрешить противоречия по поводу стран Прибалтики в секретном протоколе, чтобы не толкать их в объятия Гитлера самим фактом договора, который фактически ограничивает их суверенитет[16]. Англичане согласились с идеей секретного протокола 17 июля.
Как видим, представители западных демократий оказались не чужды идее подписания секретных протоколов, касающихся судеб третьих стран.
2 августа был достигнут ещё один рубеж - принято общее определение «косвенной агрессии», однако была внесена правка, что если угроза независимости возникнет «без угрозы силы», то вопрос будет решаться путём консультаций[21]. Однако данный вариант не устраивал СССР – пример Чехословакии показывал, что консультации могут слишком затянуться.
В задержке переговоров английское и французское правительства перед общественностью своих стран обвиняли Советский Союз, который по их словам выдвигает все новые и новые требования. Что было, по мнению М. Карлея, откровенной ложью — неправда то, «что Молотов постоянно выдвигал перед Сидсом и Наджиаром все новые и новые требования. Основы советской политики были четко определены еще в 1935 г… Не были новыми проблемами или «неожиданными» требованиями вопросы о «косвенной» агрессии, о гарантиях странам Прибалтики, о правах прохода и о военном соглашении. Даладье лгал, когда говорил, что советские требования… явились для него сюрпризом»[17].
22 июля было объявлено о возобновлении советско-германских экономических переговоров. Это простимулировало англичан и французов 23 июля согласиться на советское предложение одновременно с переговорами по политическому соглашению обсуждать военные вопросы. Первоначально Англия и Франция хотели сначала подписать политическое соглашение, а потом военное. В случае, если было бы подписано только политическое, и произошла бы агрессия Германии против СССР, то Англия и Франция сами бы определяли, в каких объёмах оказывать военную помощь СССР. Поэтому СССР требовал одновременного подписания политического и военного соглашения, чтобы размеры военной помощи были чётко прописаны.
Как уже говорилось выше, англичане и французы стремились прежде всего затянуть переговоры, поэтому их делегация для ведения переговоров по военным вопросам, которую со стороны англичан возглавлял адмирал Дракс, а со стороны французов – генерал Думенк, отправилась в СССР на тихоходном товаро-пассажирский пароходе "Сити оф Эксетер", который приплыл в Ленинград только 10 августа. В Москву делегация прибыла 11 августа. Для сравнения напомним, что во время Мюнхенского сговора английский премьер-министр Чемберлен счёл для себя возможным первый раз в жизни сесть на самолёт, чтобы побыстрее прилететь к Гитлеру.
Состав английской делегации говорил о том, что серьёзных намерений по подписанию соглашений Англия не имеет. Вот что писал 1 августа посол Германии в Великобритании Г. Дирксен в донесении статс-секретарю министерства иностранных дел Германии Э. Вейцзекеру[22]:
Глава французской миссии генерал Думенк говорил, что «никакой ясности и определенности» в данных ему инструкциях не было. Более того, делегации не обладали полномочиями вести переговоры: «Это просто не укладывалось ни в какие рамки, — писал позже Дракс, — что правительство и Форин Оффис отправили нас в это плавание, не снабдив ни верительными грамотами, ни какими-либо другими документами, подтверждающими наши полномочия». Думенк высказывался почти идентично[17].
Тем не менее, переговоры начались.
По англо-французскому плану СССР должен был присоединиться к обязательствам этих стран в отношении Польши и Румынии. СССР вполне логично требовал, чтобы эти страны хотя бы разрешили пропуск советских войск по своей территории. Иначе невозможно было бы войти в соприкосновение с немецкими войсками, если бы те атаковали, например, Польшу с западной границы. Поляки, однако, в силу давней враждебности к России, были против.
19 августа польский министр иностранных дел Бек по указанию маршала Рыдз-Смиглы дал французскому послу Ноэлю отрицательный ответ на вопрос о возможности прохода советских войск через польскую территорию, заявив, что поляки «не могут ни в какой форме обсуждать вопрос об использовании части национальной территории иностранными войсками»[23]. Более того, Даладье дал Думенку указания не идти ни на какое военное соглашение, которое оговаривало бы право Красной Армии на проход через Польшу.
Французский посол Наджиар писал: «Польша не хотела входить в такое соглашение... а англо-французы не слишком настаивали…Мы хотим хорошо выглядеть, — а русские хотят вполне конкретного соглашения, в которое вошли бы Польша и Румыния»[17].
21 августа маршал К. Ворошилов сделал следующее заявление[24]:
Что касалось определения размеров военной помощи, которую стороны должны были оказать друг другу, то англичане и французы тут тоже избегали конкретики, которую как раз требовал СССР. Когда адмирал Дракс сообщил английскому правительству запросы советской делегации, то Галифакс на заседании кабинета министров заявил, что он «не считает правильным посылать какой-либо ответ на них»[17]. Переговоры о военном соглашении оказались фактически сорваны.
Что же крылось за нежеланием англичан и французов подписывать соглашение с СССР? Вот что писал по этому поводу Л. Коллье, глава северного департамента английского МИД в 1935—1942. годах[17]: